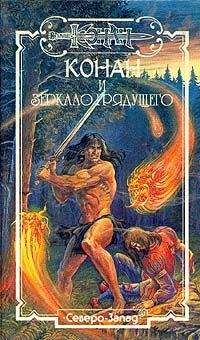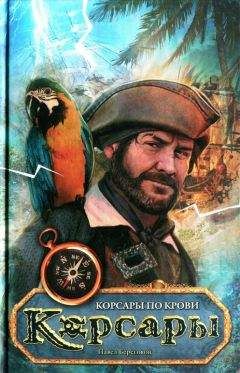Не меньшую славу Троцеро снискал себе и при обороне Венариума, участвовав помимо своей воли в написании этой скорбной страницы аквилонской истории. В том же бою сложил голову и молчаливый герцог Орантис, отец Валерия, павший от отравленного арбалетного болта, пробившего его грудь. Троцеро сумел тогда сплотить остатки наголову разбитых западных воинов и вырваться из окружения одержимых орд варваров-северян. Валерий, как любой аквилонец, скорбел о печальной участи Венариума, когда попытка расширить державные земли на севере стоила бесчисленных жизней лучших сынов наследницы Валузии. В последний раз, на его памяти, судьбы разгромленного форта касался в разговорах за кубком вина его хауранский знакомец капитан Конан, который еще мальчишкой принимал участие в этой постыдной для знаменитых тарантийских латников и боссонских стрелков операции. Но варвар, естественно, сражался на стороне своих соплеменников и не мог понять имперских притязаний Вилера Третьего, поэтому в его скупых рассказах, к вящему негодованию Валерия, аквилонцы всегда выступали жестокими, тупыми мясниками, годными лишь на то, чтобы бесчестить полоненных женщин и затравливать собаками детей.
После рассказов киммерийца Валерий долго не мог прийти в себя, ибо все то, что говорил варвар, сильно отличалось от наивных юношеских представлений, которые принцу внушались с детства. Он понял, что придворные менестрели в своих балладах о штурме Венариума открывают лишь часть правды. Однако он почти ничего не знал о последних часах своего геройски погибшего отца, ведь он с малолетства воспитывался в сумрачных чертогах тарантийского замка, в окружении молчаливых прислужников, куда он был доставлен после гибели своей матери, царственной Фредегонды, нашедшей свою смерть вместе с сотнями соплеменников в темных водах взбунтовавшегося Тайбора. Она ушла в чертоги Митры, когда мальчику исполнилось от роду восемь зим, ровно через год после гибели мужа.
Теперь же Валерию предоставлена была редкая возможность расспросить об отце человека, который был одним из ближайших его друзей… чья рука закрыла глаза павшему на поле боя. Однако его природная застенчивость мешала начать разговор, и он решил зайти издалека.
– Я слышал, вы скоро покидаете нас, граф, – заметил он как можно более непринужденно. – Должно быть, два дня беспрерывной скачки могут утомить любого, кроме прославленного конника Пуантена.
Троцеро улыбнулся, польщенный.
– Да, в мое время молодежь куда больше времени проводила в седле, чем на балах да пирушках, а умение, приобретенное в юности, не утрачивается с годами.
В голосе его не было ни ностальгии по прошлому, ни осуждения настоящего, лишь едва уловимая насмешка, словно он сказал нечто такое, что сказать полагалось и чего ждал от него собеседник, но собственное мнение на этот счет позволил оставить при себе. Как ни странно, это ничуть не задело Валерия. Должно быть, он понимал чувства стареющего придворного лучше, чем кто бы то ни было в замке, включая даже и самого короля.
Пуантен, из всех провинций Аквилонии, оставался единственной, где вельможи не разучились держать в руке меч и предпочитали охоту с рогатиной на кабанов и туров танцам в саду под звуки мелодичных цитр, – постоянные стычки с зингарцами не давали разнежиться духу. Троцеро, подобно Валерию, был воином до мозга костей, и это роднило их, несмотря на разницу в возрасте, и молодой принц ощутил внезапную теплоту по отношению к своему собеседнику. Это поразило его: он полагал, что после всего, что пережил в Хауране, человеческие страсти навек уснули в его израненной душе.
– Да, – заметил он чуть слышно, скорее в ответ собственным мыслям, чем отзываясь на реплику графа. – Современные отроки не желают нести тяготы воинской жизни. Они, видно, надеются встретить старость, так ни разу и не сев на боевого коня. Однако в мире становится все тревожнее, словно какие-то темные силы мешают варево в адском котле, не давая нам обрести покой. – Он тяжело вздохнул и швырнул кубок, который до того вертел в руках, пробегавшему мимо служке в коротком красном камзоле. – И кое-кто приветствует их… Глупцы! Это вырвалось у него с горечью, неожиданно страстно, и он испугался, что Троцеро может счесть недостойным подобное проявление чувств, однако граф Пуантенский лишь задумчиво кивнул в ответ.
– Ты прав, Валерий. Вспомни, о чем мы говорили вначале: тех, кого ты называешь глупцами, становится все больше. Все больше тех, кому не по душе порядок, заведенный Вилером; тех, для кого жажда наживы и воинской славы сильнее здравого смысла…
Обрадовавшись, что наконец нашелся кто-то, способный понять его сомнения, Валерий неожиданно распалился, позабыв о своем первоначальном намерении порасспросить Троцеро об отце:
– Они глупцы! Для них война – лишь забава или путь к обогащению. Они окрашивают ее в розовый с золотом цвет, расписывают, как детскую игрушку, любуются ею, наслаждаясь собственной мужественностью! – Последнее слово он выплюнул с нескрываемой насмешкой и презрением. – Но вам-то, как никому другому, граф, известно, что это не так – вы испытали все на себе… В ремесле воина нет красоты. Война – не развлечение, а работа, кровавая, отвратительная, необходимая порой, но… работа… Как бы рад я был, если бы мог навсегда забыть о ней!
Троцеро пожал плечами и замолчал, предавшись воспоминаниям. В его золотистых глазах отражались огни фейерверка, но казалось – это зарева пожарищ залитых кровью городов. Прошло немало времени, прежде чем он продолжил:
– Отчасти ты прав, – отозвался он чуть подсевшим голосом. – Отчасти же в тебе говорит горечь и боль незалеченных ран… Однако это не мое дело. Придет время, и ты, возможно, расскажешь мне о пережитом.
Теплота, исходившая от этого подтянутого, сдержанного в проявлениях своих страстей вельможи была столь значительна, что впервые за долгое время Валерий ощутил, как почти забытый покой нисходит на его израненную душу; он уже почти готов был просить Троцеро выслушать его историю, страждал поделиться с ним невысказанным, как вдруг его суровый собеседник неожиданно сменил тон, и все очарование, вся аура доверительности мгновенно пропала, словно теплоту летнего утра встревожил раскат грома, предвозвестник надвигающейся бури.
Валерий мгновенно насторожился, вспомнив, что в тарантийском дворце нужно держать ухо востро и следить за каждым словом и жестом. Он почуял, словно гончая, унюхавшая зайца, что все разговоры об утерянной доблести изнеженных сынов Аквилонии предваряют нечто важное, и не ошибся. Троцеро повернулся к нему и спросил как бы небрежно, но небрежность эта была нарочитая, намеренная, и Валерий со всей отчетливостью понял, что ради одного этого вопроса Троцеро, должно быть, и затеял с ним беседу.